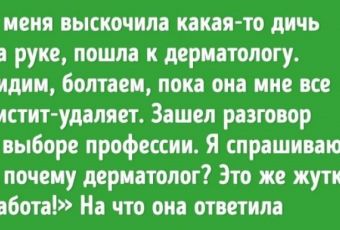Сын маминой коллеги не вернулся со школы. Мальчишка учился в третьем классе. Родители не волновались до самого вечера — ну, гуляет ребенок и гуляет. Потом бегали по дворам, разыскивали хулигана, обещая ему все возможные кары. В милицию обратились только ближе к ночи, когда оказалось, что его не видел никто.
А потом вновь обходили подъезды, обшаривали чердаки, канализационные люки, подвалы. Расспрашивали детей из соседних дворов, раз за разом, надеясь, что те видели заметили, запомнили, скажут, хоть что-то. Кто-то видел, что мальчик вышел из школы. И все. Пустота. Исчез.
Это случилось в начале сентября больше двадцати лет назад. Мальчика не нашли. Когда мы переезжали, мать все еще ждала¸ что случится чудо. Он вернется. Живой.
Я была слишком маленькой, чтобы понять беду этой семьи. Запомнила только страх моих близких. Мама отводила меня в школу, крепко держа за руку. Из школы забирал дедушка. Прогулки сводились к кратковременным вылазкам во двор под присмотром взрослых.
Меня, мелкую, это возмущало до невозможного. Как и любой ребенок, я чувствовала себя бессмертной. Со мной ничего не могло произойти — даже то, что мальчика этого, судя по всему, нет в живых, это проходило мимо сознания. В те времена мы не знали слова «маньяк». Взрослые да, что-то обсуждали страшное, и в какой-то программе, по моему «Взгляд», рассказывали об убийце-воспитателе из пионерлагеря. А соседка, Марья Филипповна трагическим шепотом по большому секрету пересказывала историю ненормальной, отрезавшей в роддоме ушко новорожденному ребенку — но мы, дети, пребывали в каком-то счастливом информационном вакууме.
Не вернувшийся со школы мальчик — мое сознание, причем ребенка, не отличавшегося глупостью, объяснило это просто — цыгане украли. Даже вполне логичного допущения, что с ним мог произойти несчастный случай, не было. Просто украли цыгане. Он жив, здоров, только где-то далеко.
Со временем эта история совсем вылетела из памяти. Только когда принцесса моя старшая подросла, пошла в школу, и я поняла, что вот это короткое расстояние, которое ей надо пройти от школы до дома — эти метров триста по дорожке, к школьному крыльцу — она пойдет без меня, я ее не буду держать за руку, а дорожка — поворачивает, и есть отрезок, когда я ее не вижу… Мне стало дурно.
Тот старый случай с мальчиком вспомнился мгновенно. Причем в свете совершенно ином. Дошел весь ужас того, что понимаешь — ребенка нет. Не уберегла. Не исправить. Вспомнилось и детское наивное убеждение, что его украли цыгане. А к нему — взрослое понимание. Что, может быть, и не маньяк то был (не говорили тогда о маньяках), может быть котлован. Или пруд. Или река. Но, может быть, и человек, который уже совсем не человек. И спасти ребенка от этого я не смогу, если меня не будет рядом, а он…
А сам ребенок может не понимать, что это — опасность.
Когда я твержу своим школьницам, что опасность может идти даже от хорошо знакомого человека — они надо мной смеются. «Да что кто нам сделает»! «Да что может случиться»!
Старшая, правда, уже начала понимать, что случиться может многое. А десятилетняя мелочь упрямо трясет косичками и с видом умудренного опытом человека отвечает:
— Мууууууль, у тебя паранойя!
Или рассказывает, что она сделает, если на нее кто-то нападет.
Все мои уверения, что сделать она не сможет абсолютно ничего, волшебным образом в одно ушко влетают, в другое — вылетают.

Когда я вижу эту счастливую уверенность, то вспоминаю себя и понимаю: это какое-то странное свойство детской психики. Ребенок просто не осознает, что его могут убить. Волшебная убежденность в собственном бессмертии и безопасности. Она во всем. Залезть на трубу старой котельной — да в легкую! Ухватиться за провода на слабо — да пожалуйста! (так погиб сын технички из нашей школы, бабЛизы, много-много лет назад). Помочь милой тете снять котенка с дерева — ой, тетя, а где котенок, куда вы меня тащите?..
Когда ребенку говоришь об опасности, он вроде бы слушает, внимательно. Кивает и соглашается. Но не осознает. Вот хоть лопни, хоть тресни, не осознает! Потому что пребывает в счастливой иллюзии собственной неуязвимости.
Я вспомнила эту историю, потому что вчера вечером неподалеку от нас в семье приключился пусть кратковременный, но кошмар.
Семилетний мальчик исчез с закрытой территории придомового участка. Вот был он во дворе — и нет его. Забор — высокий, не перелезть. Замки на калитке крепкие — снаружи не вскрыть без грохота. Два отлично тренированных ротвейлера несут охрану на участке. А ребенка — нет. И калитка, которую снаружи не вскрыть, открыта.
Хорошо, что соседские мальчишки заметили, что первоклашка сам вышел со двора и пошел вверх по улице. Даже окрикнули его. Он ответил что сейчас придет, позвал к себе во двор играть.
Пару часов спустя гуляку нашли в гостях на другом конце поселка, увлеченно режущегося в какую-то игру с таким же мелким раздолбаем. К тому моменту взрослая часть нашего населения успела прочесать все окрестные кусты и опушку леса, проверить ямы за поселком и все-все-все.
Бабуля гостеприимного шалопая была очень удивлена, что поднялся такой переполох — она даже не думала, что гость может не спросившись у родителей уйти…
Казалось бы, все закончилось хорошо, просто прекрасно, но по данным СК России в 2012 году без вести пропали 13 455 детей, из них 3999 малолетних (до 14 лет). Можно найти новые цифры, у меня просто нет желания искать. И поиск пропавших детей — это не короткое приключение, как это, слава Богу, случилось вчера у нас в округе, а тяжелый труд. А уж что происходит с детьми, которые попали в руки преступников, мне представить страшно.
Тут надо сказать, наверное, что то вроде :»берегите детей»…
Хотя за ними лучше всего неусыпно следить. Жизнь каждого ребенка — бесценна. Оборвать ее может что угодно.
Да и не только ребенка.
Дедушку этого мелкого… пропущу нехорошие слова, увезли на Cкорой. С сердцем плохо стало, и очень, очень жалко старика, очень достойный дед. Очень надеюсь, что его вылечат быстро и без последствий.